Я тогда ехал в душном автобусе, и в моем внутреннем кармане пиджака что-то копошилось, да назойливо стучало: то ли сердце, то ли шероховатая коробочка. Я тихо ругался на автобус за его ленивые шажки, за эти остановки, на которых он давал себе глубоко отдышаться, ругался на людей… Я ведь ехал к ней!
Я все помню смутно, но ее - детально: земля размылась, а она осталась самой четкой и явной картинкой посреди туманного мира. Она являлась единственным понятным мне жизненным ориентиром.
Высадился и ринулся к Саду «Эрмитаж», она стояла за воротами в длинном черном платье и крутила головой из стороны в сторону, пальцами теребила поясок серой сумки и постоянно заглядывала в телефон. Я ее не узнал: была ли она слишком красива или непривычно откровенна. Что-то в ней опошлилось, искривилось, сорвалось.
У меня сразу живот скрутило, и комочек горло порезал. Подошел к ней, обнял. У нее была такая холодная кожа, но по-прежнему шершавая, словно отслоившаяся, разделенная на крошечные пупырчатые катышки. Обыкновенно, когда я трогал ее кожу, мне чудилось: я закапываюсь с головой в горячий песок на берегу моря. В тот вечер я оказался у какого-то обнищалого прудика.
-Билеты, надеюсь, при тебе.
-Ой…
Мне стало стыдно: она терпеть не могла электронные билеты.
Балет – событие для нее, и она предпочитала… Даже обожала… Нет, требовала, дабы столь значимые вечера проходили традиционно. Официально-торжественный вид, приход в театр за полчаса до начала спектакля, отсчет всех звонков, лучшие места посередине, брошюрки, знание либретто наизусть… И, конечно, билеты. В физическом виде.
А я забыл. Просто помнил все последние недели совершенно о другом. Мне думалось, она сейчас меня возненавидит, стукнет в грудь своим кулачком и убежит. Но она только раздраженно кивнула:
-Ладно.
Как это… Ладно?.. Может, она догадывалась? Уже все знала?
Открылся занавес, и она не заплакала! Она не заплакала! Я толкнул ее в плечо. Надеялся, смогу выбить из глаз привычные серебряные капли, в которых всегда плавали ошметки туши и темно-синих теней. Но ничего. Ее глаза продолжали заморожено блестеть, уноситься куда-то под потолок.
Я что-то упустил, не осознал ее, не разглядел…
«Сильфида». Какая красота! Я любил балеты, но не как она… Она жила балетными постановками, речами прим по окончании спектаклей, сидела до последней минуты, и мы вставали в конец очереди в гардеробе. Она повторяла все взмахи руками балерин, объясняла мне каждый жест, клала подбородок на впереди стоящее сиденье и долго улыбалась. Я до сих пор не представляю, как она могла так долго улыбаться! Как у нее не сводило щек…
Но тогда она молча застыла. Статуэтно, недоступно. Мышцы на лице не дергались, и она даже, наверное, не моргала.
Ну точно знала, - думал я с неким разочарованием и сладостью.
Я принялся следить за спектаклем. Честно, не выходило. Я изрядно потел, протирал ляжками ткань сиденья, вертел головой, хрустел косточками пальцев, кусал губы до того, что они алели и опухали, а потом морщился от привкуса крови. Карман все еще что-то раздирало: то ли сердце, то ли коробочка.
Настоящий ужас меня охватил, когда балет завершился. Она не похлопала артистам, не проводила их громким «Браво!». Она вышла из зала первой. Не взяла меня за руку. Мы выбежали на улицу. Ночь вовсю горела пятнами в небе, сентябрьский ветер облегал тела, заворачивал в невидимую ткань с холодными шипами изнутри. Она затряслась от мерзлоты, я – от волнения.
Одернул ее, схватил за ладонь, замер перед ней, как солдатик и, не решившись посмотреть в глаза, наконец сунул руку в карман, выяснил, что отстукивало все-таки сердце. Коробочка протиснулась между моими пальцами. Я встал на одно колено.
Решился посмотреть. Не узнал ее.
Она плакала несчастными слезами. Все в ней мгновенно стало не так. Уродливо, отвлеченно, по-чужому.
-Извини… Извини…
Я тогда впервые ее не понял. Всю ее не понял. От кончика пят до макушки я не понял. Не понял до того, что она размылась, и я не запомнил ничего, что было дальше.
А слово «нет» отныне единственный понятный мне жизненный ориентир.
Подробнее https://boluch.livejournal.com/369.html?med...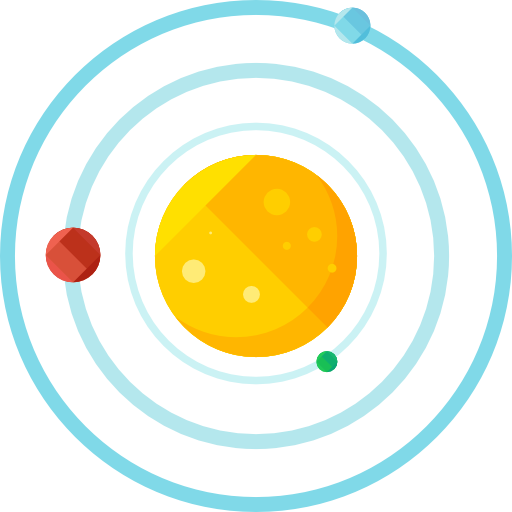
 13444 .
Мы в :
13444 .
Мы в :