Дочитал нового Веркина. Вещь хорошая, но не для всех. Жанр её я бы определил как «экзистенциальный хоррор» или даже «экзистенциальный скриммер», только здесь на читателя из-за угла внезапно выпрыгивают не чудовища, а неразрешимые вопросы жизни, вселенной и всего такого, читатель пытается над вопросом размышлять, убеждается в его полной безнадёжности и внутри себя страшно кричит.
Сюжет… Да, здесь есть сюжет, хотя и довольно смутный. Главный герой, суровый и мужественный, но несколько простоватый таёжный спасатель Ян избран по жребию в состав Большого жюри, которое должно решить какой-то очень важный для всего человечества вопрос (какой именно – показания путаются), и он отправляется на специальную планету, где проходят таинственные исследования. В космопорте он знакомится со своими спутниками – филологом-библиотекарем Марией и синхронным физиком Уистлером.
Синхронная физика, если что, это такая штука, которая занимается странными совпадениями, а также поэтическим восприятием реальности, ну и ещё всякими квантовыми заморочками, парадоксами, текучей реальности, короче, одна из тех наук, которых разъяснить можно либо через набор формул, не вмещающихся в сознание нормального человеку, либо через какие-нибудь безумные образы и аналогии, единственное, что про неё точно понятно – наука эта работает прям вот над самыми что ни на есть фундаментальными основами реальности. И все учёные, занимающиеся этой наукой, люди, мягко говоря, своеобразные, а Уистлер даже среди синхронных физиков слывёт эксцентричным.
Космические полёты в дивном мире далёкого будущего имеют одну неприятную особенность: при гиперпрыжке (или как оно там у них называется) с живым человеческим мозгом случается какой-то непонятный треш (тут можно было бы пошутить про варп и Губительные Силы, но, подозреваю, что гиковский вархаммеровский юморок мало кому понятен, так что оставлю его при себе), поэтому ученые придумали элегантное решение: пассажиров и команду перед прыжком подвергают эвтаназии, а после прыжка оживляют. И так несколько прыжков подряд.
Понятно, что на психологическом состоянии несколько смертей и воскресений сказываются не лучшим образом. Мало того, планета, куда они прилетают, тоже, что называется, с норовом, в частности, там постоянно стоит полярный день. Мало того, здание института, куда прибывают герои, проектировали альтернативно одарённые архитекторы, вдохновлявшиеся, похоже, описаниями сооружений Древних из Лавкрафта, поэтому в здании имеют место быть дикие пропорции, ядрёные расцветки, двигающиеся стены и постоянное изменение расположений и форм окон, коридоров, дверных проёмов и высоты потолка. Мало того, в подвале института физики строят экспериментальную установку, которая при тестовых запусках непредсказуемым образом влияет на реальность. В общем место такое, что там даже психически здоровый человек быстро сойдёт с ума, что уж говорит о том, кого перед этим несколько раз убили и оживили.
В институте Яна да Марью встречают ещё несколько физиков, таких же двинутых, как и их спутник, и все они начинают вести бесконечные ветвящиеся споры на разные отвлечённые темы, точнее говоря, они даже не то что спорят, скорее встают в позу и произносят пафосные монологи, а потом истерят, срываются то на ругань, то на зловещий шёпот, пугают страшными историями, сыпят кошмарными предсказаниями, очень кошмарными, ещё более кошмарными, обвиняют друг дружку в нарушениях этики… короче, втирают какую-то дичь. Всё это здорово напоминает «Солярис» Лема, только сильно покусанный Филиппом Диком, с вкраплением парочки вставных историей, одна из которых явно отсылает ко «Дню гнева» Гансовского, покусанного всё тем же Филиппом Диком… и могучая тень Стругацких витает над всем происходящим, конечно, куда же без них.
Впрочем, о литературных аллюзиях точно так же как и о затронутых в романе проблемах можно рассуждать долго. Имя им легион, ибо их много. Искусственный интеллект – есть. Генетически изменённые животные-питомцы и вопрос отношений с ними – есть (ещё один привет Филиппу Дику). Колонизации внеземных солнечных систем – есть. Предсказуемый и скучный мир Солнечной Системы, в котором не происходит ничего неординарного, нет никаких вызовов и стремлений, а люди живут мелкой, скучной жизнью – есть (привет Станиславу Лему и его «Возвращению со звезд»). Острое желание наконец-то найти инопланетный разум и разочарование о того, что он ну никак не хочет находиться – есть.
И, конечно, никак не обходится без главной темы для научной фантастики с момента её возникновения – того, что каждое изобретение, каждое изменение жизни, каждое достижение прогресса приносит с собой последствия, причём как предсказуемые, так и не просчитываемые заранее, причём бывают такие последствия, что и не знаешь куда от них бечь. И тут, понятно, возникают вопросы и о возможных рисках, и об ответственности учёных-экспериментаторов, и о том, каково приходится тем, кто за учёными разруливает то, что они натворили, и о том, что люди каждый раз в такой ситуации негодуют, обещают, что больше ни-ни, а потом по новой устраивают всю ту же безумную развлекуху.
Да, вот ещё такая небольшая и, увы, весьма вероятная деталь будущего устройства общества. Человечество в какой-то момент отказалось от электронных книг и вернулись к бумажным, в результате получили вал новинок, которые ненадолго вспыхивают, привлекают внимание, а потом копятся мёртвым грузом в библиотеках, и никто к ним не возвращается, кроме, может, особо въедливых филологов. И даже если отправлять целые звездолёты, набитые книгами, на колонизированные миры… то там они, опять же, никому не нужны. И вот, в романе часть сцен разворачивается в огромной библиотеке института на другой планете, и это одновременно и приятно, такой своего рода фансервис для книгочеев, и жутковато, потому что легко представить, что если у нас сейчас огромный переизбыток литературы, что же будет через несколько столетий.
Я, кстати, тут же вспомнил похожую библиотеку на моей первой работе, с двумя отделами, научной литературой и художественной, с вполне солидным наполнением, там даже серия «Библиотека всемирной литературы» была, и я туда регулярно ходил, рылся на полках, с большим удовольствием. И литературные журналы они выписывали, и техническую библиотеку старались пополнять. Две библиотекарши работали, одна в литературном отделе, другая – в техническом. А потом пришёл новый директор, все книги разом отправили в утиль, библиотекарш уволил, а помещение библиотеки переделал под конференц-зал. М-да, ладно, что уж там. Такие дела. Хотя мне вот лично было обидно, и не только мне.
Ещё в чудесном новом мире вовсю проявляется проблема книг с одинаковыми или очень похожими названиями, и что ещё веселее: с книгами, содержащими один и тот же текст, но написанными разными авторами, и непонятно то ли это плагиат, то ли попытка вернуть интерес к шедевру прошлого, то ли то самое странное совпадение, которым занимаются синхронные физики. Привет и Борхесу с его «Дон Кихот Пьера Менара», и Георгию Шаху с его рассказом «И деревья как всадники» (если, конечно, кто ещё помнит такой, а кто не помнит – поищите, он прикольный и, увы, пророческий).
Возвращаясь к сверхидее романа. Большая часть рассуждений в нём крутятся вокруг набора взаимосвязанных проблем: граница человеческого познания, возможность распространения человечества по вселенной, правила этики при проведении экспериментов и потребность в изменении природы человека для того, чтобы соответствовать его новой роли «человека космического» (привет Стругацким и их люденам). Особенно остро мучительно переживает этот комплекс проблем физик Уистлер, и потому он постоянно всем досаждает. Ворчит, возмущается, гневается, требует решительных мер, в частности, разрешить применение вещества, которое позволяет резко увеличить способности интеллекта, хотя и влечёт за собой очень неприятные последствия. Тут привет сразу и классическому советскому сюжету о мучениках науки как в фильме «Девять дней одного года», и Томасу Дишу с его «Концлагерем» (опять же, если кто помнит этот вообще-то очень неплохой роман) и много кому ещё.
Всем этим спорам поневоле внимает простодушный главный герой Ян, который от природы не способен оперировать абстрактными понятиями, потому не принимает столь уж близко к сердцу возмущения и вопрошания учёных мужей. Кажется, именно поэтому он и оказался в составе Большого Жюри, которое, напомню, по идее должно принять некое решение о дальнейшей судьбе экспериментов (впрочем, оно так до самого финала всё собирается и никак не соберётся, этот роман можно было бы назвать «В ожидании Большого Жюри»). Ян в каком-то смысле здесь выступает представителем и выразителем обычного здравомыслия, и всё, что он может – это только дивится на то, какие сложные вопросы поднимаются, какая лютая дичь кругом творится. Он – там самая публика, к которой обращаются актёры этой трагедии, но театр тут иммерсивный, и у него тоже есть возможность поучаствовать. И когда дело доходит до практических действий, он реагирует быстро, чётко и эффективно, как и положено спасателю… только вот проблема в том, что тот набор проблем, с которыми сталкивается он сам и в его лице всё человечество, невозможно разрешить с помощью мускулов и даже навыков таёжного выживальщика. И в итоге роль Яна сводится к амплуа «растерянный свидетель».
Кстати, чем-то он напоминает Максима Каммерера в «Жуке в муравейнике», когда уверенный в себе, подготовленный, опытный, умелый, неглупый парень вроде и действует как положено - чётко, грамотно, продуманно. Искренне переживает за всех, кто оказался втянут в этот давний и неразрешимый этический конфликт. А в результате просто оказывается наблюдателем, пытающимся, но не способным ничего изменить.
Зыаканчивается роман не взрывом, но всхлипом, опять же, вполне в традиции что Лема, что Стругацких. Не стоит ждать тут каких-то особых откровений, каких-то однозначных ответов на вопросы. Да, время жестоких чудес, да, не забыть бы мне вернуться. Вечные сюжеты на то и вечные, что у них нет кульминации и развязки, финал становится лишь отправной точкой для продолжения, хотя для нас, избалованных литературой, в которой все концы обязательно сводятся с концами, даются все ответы на все вопросы, персонажи проходят положенные им акты развития, это кажется непривычным и даже нечестным. Хотя, опять же, повторю, для того направления научной фантастики, что предпочитает погружаться в неразрешимые вопросы, подвисшие финалы вполне характерны.
И мне кажется, такое обращение Веркина к традиции скептической, сомневающейся, «странной» фантастики 70-х по-своему символично и отражает дух нашего времени. В конце 60-х, в 70-е после бурного всплеска технооптимизма, веры в прогресс, изменение человеческой природы и неизбежное наступление всеобщего счастья на Земле, а именно эти сюжеты активно развивали фантасты «золотого века», наступило время «переоценки ценностей», вопросов о смысле прогресса, гонки за счастьем, последствий научно-технического революции, влиянии на общество, не всегда положительное, ответственности учёных, политиков, да и просто всех людей за ошибки, совершенные по ходу развития, сомнения в превосходстве человеческого разума и так далее.
Точно так же и в 20-е годы нынешнего века вполне логично переоценка бравурной эпохи нулевых и отчасти 10-х годов, когда на волне развития информационных, биологических и отчасти космических технологий опять начали утверждаться идеи о превосходстве человеческого разума, о бурном развитии науки, неуклонной поступи прогресса о преобразовании мира, достижении технической сингулярности, проникновения в тайны мира, новой волны освоения космоса, технооптимимзм 2.0 и всё такое. Главным, пожалуй, воплощением этого нового подхода стал «Марсианин» Энди Вейера, вышедший в 2014 году, а кажется как будто целую эпоху тому назад, и написанный прямо точь-в-точь в стиле «золотого века».
Сейчас, понятно, и в человеческую природу уже как-то совсем не верится, разве что в её безнадёжную испорченность ущербность, слово «прогресс» стало практически ругательным, от науки наступило разочарование, так как все её достижения вылились во что-то стрёмное. Что информационные технологии, на которые возлагались такие огромные надежды, а они оказались средством для мошенничества, надувательства, насилия, пропаганды и террора, как частного, так и государственного. Что медицинские технологии, которые достигли небывалого рассвета, что правда, только вот оказались доступны во всей полноте лишь богатым и стали ещё одним средством социального различия, причём едва ли не самым мрачным и обескураживающим.
Физика и космология ушли в такие дебри и так всех запутали, что в них уже и сам учёные сомневаются. Социальные науки подарили нам тысячу и один способ задурить массы. Гуманитарные науки погрязли в схоластике. А история теперь учит только тому, что если вы думаете сейчас плохо, то посмотрите как было раньше и осознайте, что было ещё хуже, не зря же у нас такую популярность приобрело сообщество «страдающее средневековья».
Так что закономерно происходит возрождение скепсиса 70-х годов, недоумения, разочарования, понимания, что наука ни на что толком ответить не может, а только всё ещё больше запутывает. Что на вечные вопросы бытия нет никакого ответа, или же скорее есть множество разные ответов, что, пожалуй, ещё хуже. Вот и Веркин, можно сказать, зафиксировал это расстройство умственной сферы, шизофреничность, расколотость массового сознания, тёмное время, «час быка» для науки, культуры, самоощущения общества. Так что в этом плане, можно сказать, книга символичная и, может, даже рубежная, показывающая отличие того, что нонеча, от того, что давеча.
И напоследок, как обычно, рекомендую читать или нет. Тут вот какая проблема – в тексте затрагивается очень много тем, входящих в круг интересов жанра научной фантастики, но из-за своего количества затрагиваются они в таком несколько, я бы сказал, заархивированном виде. Тот, кто более менее знаком с этими идеями, их опознает и расшифрует, а также считает многочисленные отсылки на другую фантастику. Тому, кто не знаком, боюсь, будет сложно читать, он может оказаться погребённым под натиском незнакомых концепций.
Внутри жанра научной фантастики выработался свой ну не язык, конечно, но свой диалект или, может, свой замкнутый дискурс, и человеку со стороны трудно оценить, насколько виртуозно Веркин этим дискурсом владеет, а у него действительно мастерство во всех смыслах фантастическое. «Сорока на виселице» играет в одной лиге с самыми выдающимися произведениями жанра, причём именно из той ещё эпохи конца 60-х и 70-х годов, когда творили великие мастера. Но, опять же, чтобы оценить величие этого романа, нужно разбираться в жанре на хорошем и даже очень хорошем уровне.
Подробнее https://olnigami.livejournal.com/392749.html?...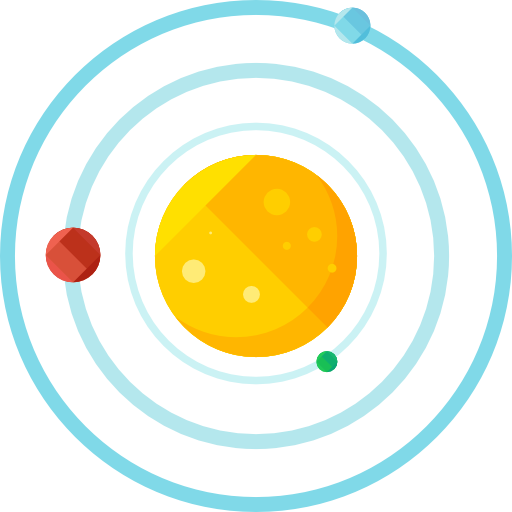
 9829 .
Мы в :
9829 .
Мы в :